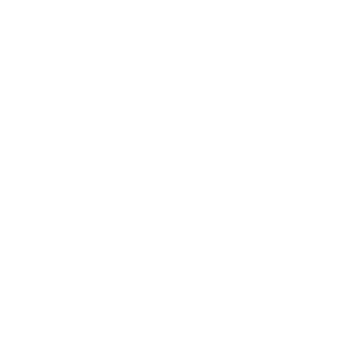Орнамент и память — часть II
О сдирании кожи и эротике, орнаменте как конструкции и фасаде как речевом акте

Возможно, сдирание кожи — самое предельное лишение у плоти её границ: замученный человек остаётся без последней защитной оболочки, отделяющей его от мира, и сам воздух становится обжигающим прикосновением, пока боль, стыд и жажда смерти не сольются в одно неразличимое целое. Согласно преданию, апостол Варфоломей принял мученическую смерть в Великой Армении1, после того как, сокрушив идолов и обличая языческие культы, навлёк на себя гнев царя. Одной из наиболее известных в истории искусства иконографических реминисценций этой сцены является «Страшный суд» Микеланджело Буонарроти в Сикстинской капелле: тосканский живописец, скульптор, зодчий и поэт вписывает свой образ в изображённую содранную кожу апостола Варфоломея и тем самым увековечивает себя в живописном поле рядом со Христом. Тем самым снятие кожи — наряду со смертной казнью — предстает как крайняя форма наказания: оно лишает тело его защитной оболочки и низводит его до одной лишь анатомии.
„Вторую кожу можно без труда снять, первую — вовсе нельзя, а третью — лишь с большим трудом“, — писал умерший в 2023 году историк архитектуры Вольфганг Пент (Wolfgang Pehnt)2, метко замечая, что между нашей мягкой кожей и построенной средой как „третьей“, жёсткой кожей3 лишь одно промежуточное звено — одежда — поддаётся замене. Архитектурная критика давно описывает архитектурную среду как «третью кожу» — после кожи человеческого тела и одежды, — призванную «быть защитой и выражением тех, кто в ней живёт».4 С тех пор, как Готфрид Земпер (Gottfried Semper), — знаменитый архитектор эпохи историзма, чьё имя носит дрезденская Опера Земпера (Semperoper), — приравнял в своих размышлениях об «одеянии»5 орнамент к коже здания, становится очевидно, что о самой эпохе красноречивее всего свидетельствует её готовность сплошь раздевать собственные города, снимая с них эту кожу. В зависимости от того, какую именно «кожу» имеет в виду Пент, такое обнажение может означать и эротическое притяжение, и бесчеловечную пытку с её бесконечной мукой.
В сходном структурном смысле модернизм XX века6, в значительной мере враждебный орнаменту, — от раннего функционализма и авангардов 1920-х годов (Neues Bauen, Баухаус, советский конструктивизм), через интернациональный стиль и послевоенный модернизм до серийного массового жилищного строительства из железобетонных панелей, — не только лишал здания украшений, но и последовательно снимал с них «кожу», словно сама по себе всякая декоративность уже считалась преступлением. Остаются конструкции, которые исправно функционируют, но уже ничего не рассказывают, — фасады, стирающие всякий след положения, истории и пользования и свидетельствующие только об одном: об эффективности. Почему общество принимает подобное наказание, обрушенное на тело собственного города, — и вдобавок внушает себе, что в этом и состоит прогресс? Ни одно живое тело не обходится без кожи, но только в архитектуре идеалом объявлена гладкая поверхность. По мере того как внутренняя сложность здания всё возрастает7, от внешней оболочки ожидают, что она по возможности перестанет что-либо рассказывать — разве что об обещании эффективности. Именно здесь и начинается конфликт между конструкцией и орнаментом: там, где фасад либо окончательно немеет, либо вновь обретает способность говорить.
Чтобы понять, что именно теряется в результате такого сплошного «раздевания» поверхностей, прежде всего необходимо прояснить, что в современном архитектурном дискурсе вообще понимают под «орнаментом».
Что в нынешнем архитектурном языке называют орнаментом?
В сегодняшних архитектурных дискуссиях под «орнаментом» понимают уже не только путти, акантовые листья и цветочные фризы, но любую сознательно оформленную надстройку над обнажённой конструкцией — всё, что выходит за пределы сугубо необходимого для статики и ограждающих элементов и при этом что-то высказывает. В дальнейшем — эвристически и сознательно упрощая — будет предложено своеобразное различение, которое вырисовывается, если проследить линию дебатов от Земпера и Лооса до недавних обсуждений цифрово-параметрических орнаментов (например, у Патрика Шумахера). К ним относятся:
(1) тектонические орнаменты: элементы, вырастающие из самой конструкции или делающие её читаемой — карнизы, лизены, каннелюры, оконные обрамления, с помощью которых становятся различимы нагрузки, этажность, узлы соединений;
(2) иконографически-фигуральные орнаменты: элементы, не имеющие конструктивного значения, — рельефы, фигуры, гербы, эмблемы, ленты с надписями, — в которых кодируются сюжеты, властные притязания, религия, профессии;
(3) абстрактные / геометрические орнаменты: рисунки кирпичной перевязки, узоры плитки, сетки, парапетные поля, которые не изображают фигур и не рассказывают сюжетов, но задают ритм, масштаб и порядок;
(4) материально-фактурные орнаменты: цвет, текстуры, рисунок швов, патина, настенные росписи, прежде всего иллюзионистские росписи на фасадах.
Далее — если специально не оговорено иное — под «орнаментом» будет подразумеваться прежде всего тектонический орнамент (1): карнизы, лизены, сандрики, русты, балюстрады, в которых становятся читаемыми несущая структура, передача нагрузок и пространственный строй. Цветочки и пухлые амурчики-путти останутся за пределами рассмотрения.
Если предельно схематизировать, сложившуюся исследовательскую картину можно разделить на три крупные линии: с теории «одеяния» Готфрида Земпера орнамент понимают как культурную «кожу» сооружения; со времён эссе Адольфа Лооса «Орнамент и преступление» — как спорное поле на пересечении морали, экономики и веры в прогресс; с эпохи постмодернизма (например, у Роберта Вентури и Дениз Скотт Браун) — как вновь обретённый самостоятельный язык знаков, ироний и контекстуальных отсылок. В последние годы к этому ряду добавляются цифровые и параметрические орнаменты — рельефы, выфрезерованные на станках с ЧПУ, фасады, напечатанные на 3D-принтерах, медийные оболочки, — и всё это наглядно показывает: с появлением новых технологий тема не исчезает, а скорее переживает новое возрождение. В данном эссе в пределах очерченного понятийного поля внимание сознательно сосредоточено на тектоническом и архивном измерении орнамента — на той его стороне, которая делает зримыми нагрузки, способы использования и социальный порядок: карнизы, профили и лепнина рассматриваются как носители конструктивной памяти, истории и социального кода. При этом флоральные, сугубо иконические, «чисто декоративные» мотивы не отвергаются, но выводятся за рамки дальнейшего анализа.
Подлинное «преступление» модернизма состоит не в том, что он снял со зданий их убранство, а в том, что саму эту декоративность объявил преступлением и патологией. В тот момент, когда орнамент превратили в предмет подозрения, взгляд сместился от конструкции к морали: карнизы, профили, пилястры перестали быть чётко очерченными границами тектонической логики и стали рассматриваться как строительный резерв для экономии и как наглядные свидетельства расточительности, декаданса, ретроградности. Не отрицая ни вполне оправданных санитарно-гигиенических и экономических соображений, ни завоеваний модернизма — скажем, серийного строительства для массового общества, — всё же приходится признать: на место вопросов выразительности и репрезентации выдвинулся форензический, почти аудиторский дискурс об архитектуре как отчёте об устойчивости8, как сальдо затрат и как техноидной оболочке, которая должна быть дополнительно утеплена и технически дооснащена ex lege9. Моральная стигматизация орнамента никуда не исчезла; изменилась лишь семантика упрёков: вместо «буржуазно-мещанской маскарады» и «с точки зрения гигиены сомнительного расточительства материала» теперь говорят об «энергетически проблематичной» и «не устойчивой в экологическом отношении» оболочке здания. Часть орнаментокритических авангардов и всё более рьяная в снятии лепнины строительная практика перестали воспринимать фасады прежде всего как систему закодированных высказываний и стали относиться к ним как к поверхности подозрения, на которой, как полагали, можно уличить здание в «виновной» избыточной надстройке.10 По существу речь идёт о переходе от тектонической к моральной интерпретации фасада — и, следовательно, об искажении его семантики.
То, что сегодня в архитектурном языке принято называть орнаментом, в историческом плане в своём большинстве произрастает из конструкции, хотя наряду с этим всегда существовала и параллельная традиция чисто иконических, не тектонических орнаментов. Издали орнамент может казаться всего лишь внешним лоском; но чем дальше мы заглядываем в историю, тем отчётливее эти «декоративные» слои прочитываются как атавизмы и рудименты прежних строительных традиций. Так, начиная уже с Витрувия, дорическую триглифу11 истолковывали как каменное переложение деревянных торцов балок, а каннелюры колонны12 — как отголосок ствола дерева, как светотеневые бороздки, призванные оптически утончать её силуэт. Изначально орнамент был той грамматикой, на которой здание говорит о несомых им тяжестях, о способе соединения частей и о собственном происхождении. То, что историзм позднего XIX века местами довёл эту грамматику до пустой риторики, не отменяет её подлинного смысла.
Если мысль довести до предела, можно сказать так: из деревянного зодчества вырос каменный строй, который в своей тектонике сохранял память о древесном предшественнике; со временем эта каменная «переводная» форма обернулась маской, оторвавшейся от первоначального способа строительства, — а маски падают, как только вера в их конструктивное происхождение утрачивается.


Похожую динамику можно наблюдать и сегодня. Сетчатый рисунок стяжных анкеров на бетоне с открытой фактурой, сборные панели и тонкие бетонные облицовочные элементы, серийные вентиляционные решётки, открыто проложенные инженерные линии в архитектуре хай-тека, индустриального стиля и «лофтов», панели с накладными «винтовыми головками», ламельные солнцезащитные системы — всё это изначально задаётся требованиями строительной техники, затем тектонически прорабатывается и, наконец, задолго после исчезновения исходной необходимости начинает копироваться как свободно используемый орнамент. То, что возникает как вынужденный конструктивный след, в итоге оборачивается поверхностью, готовой к цитированию.
О том, что фасад и сегодня способен выступать средством архитектурной коммуникации, свидетельствуют лишь немногочисленные, почти уникальные примеры — например, парижский Институт арабского мира (Institut du Monde Arabe) архитектора Жана Нувеля (Jean Nouvel) с его механизированным фасадом-машрабией13, настоящей золотой жилой для обслуживающих фирм, или медийная оболочка фасада Грацкого Дома искусства (Kunsthaus Graz), который в исторической части города прозвали «дружелюбным инопланетянином» (friendly alien) и который, пожалуй, впервые столь откровенно демонстрирует, что некоторые заказчики и проектировщики будто бы и вправду не вполне с этой планеты. Эти примеры также наглядно демонстрируют, что архитектурное высказывание на уровне оболочки здания не исчезло, а лишь сконцентрировалось в редких исключительных случаях. В контексте рассматриваемой здесь повседневной, серийной городской застройки подобные иконы скорее свидетельствуют о том, что архитектурная выразительность фасадов переключилась с обычного фона на несколько эффектных исключений, чем о преодолении этой тенденции: они остаются особым случаем, а не образцом для массового подражания.14

Paris, Institut du Monde Arabe (1981–1987, Jean Nouvel / Architecture-Studio). Photo: Fred Romero, Lizenz: CC BY 2.0.

Graz, Kunsthaus bei Nacht (Hyperillusion Graz, 2015). Photo: Markus Wintersberger, Lizenz: CC BY-NC 2.0, via Flickr.

Graz, Kunsthaus am Tage (2003). Photo: Heribert Pohl (Polybert49), Lizenz CC BY-SA 2.0, via Flickr.
Фасады эпохи Gründerzeit прежде всего отличаются пластичностью!
Вертикальные и горизонтальные членения — цоколь, средняя зона, венчающий карниз, эркеры, балконы — формируют пластичность и глубину фасада, рождают светотеневую игру и выстраивают ступенчатый переход от стены к оконному проёму. Эти членения подчинены строгому иерархическому строю, соразмерённому особенностям человеческого зрения, поскольку действуют одновременно на нескольких масштабных уровнях: издали прочитывается основная фигура, которая по мере приближения распадается на всё более мелкие жесты — тонкие подчинённые членения и ступенчатые наслоения. Фасад переживается как динамическое событие в движении прохожего и предстает как фрактальная система: на каждой масштабной ступени он отвечает вышележащему уровню собственной, более тонкой артикуляцией, так что объём здания с каждой дистанции рассказывает что-то иное. Всё это будоражит взгляд, вступает во взаимодействие с телом и даёт работу мозгу.
Тот, кто воспринимает город не как простое скопление объёмов, а как читаемый порядок, легко замечает, насколько современная архитектура утратила то, чем эпоха Gründerzeit распоряжалась как чем-то само собой разумеющимся: способность не только функционировать, но и говорить. Современный фасад, напротив, зачастую уже лишён этой второй, мелкомасштабной повествовательной прослойки. Его крупный рисунок — сетка, раскладка панелей, ленточное остекление — вблизи остаётся тем же, что и издалека; и при движении по улице эта поверхность воспринимается как почти однородная. Дело не в том, что исчезла пышная декоративность с путти и акантовыми листьями. Прежде всего утрачена пространственная грамматика, способная превратить плоскую развёртку фасада в повествование, — тот грамматический каркас, внутри которого такого рода мотивы вообще становятся внутренне необходимыми.
Одновременно был утрачен и стилистический плюрализм, на котором до сих пор держатся целые кварталы застройки эпохи Gründerzeit. Тогда существовала своеобразная многообразная однородность («гетерогенная гомогенность»): единый метрический такт — непрерывная линия застройки по границе квартала, карнизная высота, глубина корпуса, — внутри которого десятки зодчих разыгрывали собственные вариации, словно книги одной серии: у каждой свой корешок, но формат у всех один и тот же. Современное новостроительство, напротив, нередко возникает на укрупнённых участках, спроектированное немногими планировочными командами как единый брендовый объект; броская формальная эффектность подменяет тонко градуированное богатство деталей.
Но как вообще стало возможным, что эпоха Gründerzeit могла позволить себе такое изобилие?
Она стала продуктом особого сочетания факторов: стремительного роста на волне индустриализации и урбанизации; доходного дома как объекта вложения капитала; буржуазии, которая ещё была вынуждена формулировать свою волю к социальному подъёму в камне и лепнине, а не в логотипах и фирменных цветах. Фасад выступал рекламой в городской улице, орнамент — инструментом маркетинга, статусным сигналом и социальным комментарием. Такое изобилие стало возможным благодаря исключительно благоприятной макроэкономической ситуации. С одной стороны, оно извлекало выгоду из синергетических эффектов объединения Германской империи и из строительной отрасли, в которой ремесло и ранняя индустрия вступили в продуктивный союз. С другой стороны, этому способствовал историцизирующий образовательный канон, предоставлявший атласы стилей, образцовые альбомы и общий метрический такт застройки — непрерывную линию квартальной застройки, карнизную высоту и выверенные линии застройки. Эта экономико-культурная конфигурация, при которой орнамент мог быть одновременно доступным по цене, нормативно упорядоченным и придающим зданию дополнительный статус, сегодня исчезла; и именно от этого наблюдения отталкивается третья часть, в которой речь пойдёт о нынешней невозможности подобного изобилия.

- Под термином «Великая Армения» сегодня, как правило, обозначают государственное образование, которое — при всей изменчивости династий и границ — существовало приблизительно с III–II вв. до н. э. до свержения последнего царя из персидской боковой линии, так называемых аршакидов, в V в. н. э. ↩︎
- Вольфганг Пент (Wolfgang Pehnt), «Наша третья кожа» («Unsere dritte Haut»), газета Frankfurter Rundschau, 26 января 2019 г., онлайн-публикация по адресу: https://www.fr.de/kultur/unsere-dritte-haut-11512346.html (дата обращения: 5 декабря 2025 г.). ↩︎
- Беттина Гётц (Bettina Götz) / Рихард Маналь (Richard Manahl), «Аппарат формообразования – на примере одного частного аспекта строительства: жилищное строительство» («Der Apparat der Formfindung – exemplarisch dargestellt an einem Teilaspekt des Bauens: dem Wohnungsbau»), в: UmBau 14, Österreichische Gesellschaft für Architektur, Вена, 1993, с. 28–33. Онлайн-версия: бюро ARTEC Architekten, раздел «Texte / Der Apparat der Formfindung» на сайте ARTEC Architekten (дата обращения: 5 декабря 2025 г.). ↩︎
- Ср.: Вольфганг Пент (Wolfgang Pehnt), «Наша третья кожа» («Unsere dritte Haut»), газета Frankfurter Rundschau, 26 января 2019 г., онлайн-публикация: https://www.fr.de/kultur/unsere-dritte-haut-11512346.html (дата обращения: 5 декабря 2025 г.). ↩︎
- По мысли Готфрида Земпера (Gottfried Semper), фасад исторически вырастает из одеяния, скрывающего конструкцию. Такое материально-текстильное понимание фасада как (Ge-)Wand, «стены-одежды», и как театрального занавеса решающим образом сформировало проектно-теоретические представления XIX века. Кроме того, Земпера вообще принято считать одним из основоположников театральной архитектуры.
В этом контексте показателен следующий пассаж: «Textrin было введённым Земпером словом для обозначения текстильного искусства. Возможно, на эту мысль его навела этимология немецкого и других германских языков. Действительно, такие слова, как „winden“, „Gewand“ и „Wand“, то есть текстильные и архитектурные термины, восходят к одному и тому же корню», — отмечает Вольфганг Пент (Wolfgang Pehnt) в статье «Наша третья кожа» («Unsere dritte Haut»), Frankfurter Rundschau, 26 января 2019 г. ↩︎ - Под «модернизмом» в данном контексте понимается не единый стиль, а преимущественно критически настроенное по отношению к орнаменту магистральное течение архитектуры XX века, которое — в самых разных политических и экономических системах — ориентировано на функциональную рационализацию, индустриальную стандартизацию и «раздетый» язык фасада. Этот поток тянется от раннего функционализма и авангардов 1920-х годов (Neues Bauen, Баухаус, советский конструктивизм) через International Style и послевоенный модернизм до серийного массового жилищного строительства из железобетонных панелей — например, до крупных «хрущёвских» жилых массивов в Советском Союзе, возникших после постановления 1955 года «О ликвидации излишеств в проектировании и строительстве».
Противонаправленные течения — такие, как высокоорнаментированная репрезентативная архитектура социалистического классицизма или региональные варианты тропического модернизма в Латинской Америке и на Ближнем Востоке, где орнамент продолжается в климатически активных решётках, brise-soleil и узорных фасадах, — лишь частично смягчают эту тенденцию, не отменяя её исходного импульса к деорнаментализации. Поэтому в рамках интересующего здесь вопроса о снятии лепнины и нормативном сглаживании фасадов решающим оказывается не столько всё стилевое многообразие, сколько именно этот базовый вектор, который, перешагнув границу между двумя политическими блоками, утвердился и в западных, и в советских послевоенных городах и — не в последнюю очередь через экономическое и культурное влияние — распространился по всему миру.
Ср. прежде всего: Адольф Лоос (Adolf Loos), «Орнамент и преступление» («Ornament und Verbrechen»), в кн. того же автора: «Слова в пустоту» («Ins Leere gesprochen»), Вена, 1931; Зигфрид Гидион (Sigfried Giedion), «Пространство, время и архитектура. Становление новой традиции» («Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition»), Кембридж, Массачусетс, 1941; Кеннет Фрэмптон (Kenneth Frampton), «Современная архитектура. Критическая история» («Moderne Architektur. Eine kritische Geschichte»), Мюнхен, 2004; Вольфганг Пент (Wolfgang Pehnt), «Архитектура XX века» («Die Architektur des 20. Jahrhunderts»), Мюнхен, 2005; о постмодернистской критике и реабилитации орнамента см. также: Роберт Вентури (Robert Venturi) / Дениз Скотт Браун (Denise Scott Brown) / Стивен Айзенур (Steven Izenour), «Учиться у Лас-Вегаса» («Learning from Las Vegas»), Кембридж, Массачусетс, 1972. ↩︎ - инженерные системы здания, прокладка коммуникаций, противопожарная защита, нормативные предписания и возрастающая плотность использования помещений и т. д. ↩︎
- Ср., например, об утрате лепнины как массовом явлении в немецких городах XX века: Данкварт Гурацш (Dankwart Guratzsch), «Пощадите старые города от климатической санации» («Verschont die Altstädte vor der Klimasanierung»), газета Die Welt, 24 августа 2010 г., онлайн-публикация: https://www.welt.de/channels-extern/ipad/kultur_ipad/article9774257/Verschont-die-Altstaedte-vor-der-Klimasanierung.html (дата обращения: 5 декабря 2025 г.). ↩︎
- по букве закона ↩︎
- Для Берлина Берлинский союз арендаторов (Berliner Mieterverein) приводит вполне конкретные масштабы: в Кройцберге (Kreuzberg) в период с 1954 по 1979 год примерно у 1 400 из порядка 2 300 дореволюционных домов были сняты лепные фасады; ср.: Андреас В. Фойгт (Andreas W. Voigt), «Воспоминания о большом погроме берлинской лепнины» («Erinnerungen an den großen Kahlschlag des Berliner Stucks»), MieterMagazin Online, выпуск 6/2023, Berliner Mieterverein, доступно онлайн: https://www.berliner-mieterverein.de/magazin/online/mm0623/erinnerungen-den-grossen-kahlschlag-des-berliner-stucks-062314.htm (дата обращения: 5 октября 2025 г.).
Об идеологической нагрузке лепнины как «буржуазной маскараде» либо как дорогостоящем, устаревшем декоре в Восточной и Западной Германии см. сводное изложение: «Снятие лепнины в Берлине» («Entstuckung in Berlin»), https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Entstuckung (дата обращения: 5 октября 2025 г.). ↩︎ - О происхождении дорического ордера, включая триглифы и деревянные элементы, см.: Витрувий (Vitruvius Pollio), трактат «Об архитектуре» («De Architectura» / «The Ten Books on Architecture»), пер. Морриса Хики Моргана (Morris Hicky Morgan), Cambridge, MA: Harvard University Press; London: Humphrey Milford, Oxford University Press, 1914, кн. IV, гл. 2 (о деревянном происхождении дорических членов: триглифы, мутулы, гутты). Цифровое издание: Project Gutenberg, EBook № 20239, доступно по адресу: https://www.gutenberg.org/files/20239/20239-h/20239-h.htm (дата обращения: 5 октября 2025 г.). ↩︎
- ChatGPT:
Ср. относительно трактовки каннелюр и их оптической и тектонической функции: John Canning & Co. (John Canning & Co.), «Ордеры колонн» («Orders of Columns»), блог John Canning Company (John Canning Company Blog), онлайн-публикация: https://johncanningco.com/blog/orders-of-columns (дата обращения: 5 декабря 2025 г.). ↩︎ - Термин «машрабия» (Maschrabiyya, араб. مشربية [maʃ.raˈbij.ja]) предположительно восходит к корню ش–ر–ب / ш–р–б со значением «пить» и к исходной функции такой решётки как прохладного места для хранения кувшинов с водой. В библейском и современном иврите существует родственный корень ש־ר־ב / ш–р–б в существительном שָׁרָב šarav, означающем «палящая жара, пустынный зной, марево / мираж». Из арабских shariba / sharāb со временем через персидский и турецкий языки возник целый ряд заимствований: sherbet / Sherbet, sorbet, Sorbetto, а также Sirup / syrup / sirop, jarabe (испан.), xarope (порт.) — все они в конечном счёте восходят к араб. شراب / sharāb, شربة / sharba(t) «напиток, сироп». ↩︎
- Ср. в качестве ярких контрпримеров к описанному здесь семантическому обеднению повседневных фасадов несколько единичных построек, в которых оболочка здания сознательно задумана как коммуникативная поверхность. Таков, например, парижский Институт арабского мира (Institut du Monde Arabe) Жана Нувеля (Jean Nouvel, завершён в 1987 г.) с его механизированным фасадом-экраном, основанным на мотиве арабской مشربية [mašrabīya]: светорегулирующая металлическая мембрана здесь превращается одновременно в климатический и символический фильтр — об объёмах заказов на обслуживание инженерных систем этого фасада сервисные фирмы, вероятно, не пожалеют.
Далее, Грацкий Дом искусства (Kunsthaus Graz, 2003) Питера Кука (Peter Cook) и Колина Фурнье (Colin Fournier) с медиальным фасадом BIX бюро realities:united, который превращает внешнюю оболочку в низкоразрешающую дисплейную поверхность и буквально позволяет дому совершать речевые акты; «Колумба» (Kolumba, 2007) Питера Цумтора (Peter Zumthor) в Кёльне, где просвечивающая кирпичная «занавесь» подхватывает руину довоенной застройки и продолжает её в виде пористой, насыщенной памятью оболочки; Посольство Швейцарии в Берлине (Schweizer Botschaft, Diener & Diener, 2000) с тонко рельефированной кирпичной фасадной плоскостью, в которой тектоническая членённость сочетается с богатой атмосферной нюансировкой; наконец, Музей архитектурного рисунка (Museum für Architekturzeichnung, 2013) Сергея Чобана (Sergej Tchoban) в Берлине, где бетонная оболочка, несущая врезанные в неё архитектурные рисунки, сама становится носителем второй, графической повествовательной плоскости.
Все эти примеры показывают, что «говорящий», семантически нагруженный фасад вовсе не стал исторически невозможным; напротив, сегодня он сосредоточен в немногих, предельно индивидуализированных и капиталоёмких иконах культуры и репрезентационной архитектуры. Тем самым они косвенно подтверждают диагноз нормативного «сглаживания» серийной застройки: чем больше смысла аккумулируется в отдельных «особых случаях», тем более немым выглядит обычный фон жилых и утилитарных зданий, чьи оболочки предстают как энергетически оптимизированные, но в значительной степени лишённые дискурсивного содержания поверхности. ↩︎